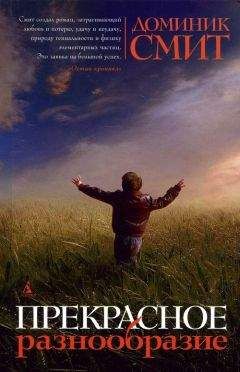Юозас Балтушис - Проданные годы [Роман в новеллах]
Старика снова подняли на кровать. Уложили прямо с юбкой Салямуте: что ни делали, как ни старались все трое сыновей и старуха разжать пальцы старика Дирды, тот не поддался, не выпустил схваченного. Потеряв терпение, Казимерас взял овечьи ножницы, вырезал из юбки лоскут вокруг отцовского кулака. Так и лежал потом старый Дирда с дочериным подолом в кулаке, сначала на кровати, а потом и на доске, одетый в саван. Чистое наказание, как взялись вкладывать ему в руки святой образок: правая зажата, и тут еще указательный палец на ней скрючен и сросся, левая тоже не того: соскользает образок, не держится, словно тут не католик, а нехристь какой лежит. Кое-как прислонили его к костяшкам, обернули кокосовыми четками, и ладно, ничего больше не сделаешь…
Весть о смерти старика мигом облетела деревню. Едва успели наши убрать избу, набросать в воротах еловых веток, а народ уже повалил к покойнику. Шли женщины, повязанные белыми платками, с напускной набожностью на лицах. Вели за руку умытых, приодетых ребятишек. Сбрив недельной давности щетину и сменив пропотевшие рубашки, шли мужчины. Все опускались на колени в ногах покойника, бормотали по три раза «вечный покой», поднявшись, осматривались, куда бы прислониться. На всех скамейках, на кроватях, на плите сидели люди, в каждом уголке люди, люди, люди, люди… Будто в престольный праздник. У дверей и в сенях сгрудилась молодежь — одни щипались, другие хихикали, а третьи пролезали ближе, подпевали. В конце стола сидел лютый ненавистник Ализаса Прошкус; оседлав очками свой кривой нос, он тянул:
Святой Пеликсас, святой Доминикас,
Покровители души се-е-ей!
И вся изба отвечала ему:
Всегда молитесь за душу е-го-о-о.
Тянули так, что мигала зажженная под потолком лампа, колыхалось желтое пламя свечей в изголовье покойника.
Старуха с Салямуте хлопотали в чулане, готовили закуску певчим, следили, чтобы не утащили чего из дому. Казимерас запряг лошадь, ввалил в телегу полмешка зерна, свиной окорок — повез позвонное. Повилёкас сел верхом, поскакал известить родню о несчастье, звать на похороны.
Песнопения и молитвы продолжались всю короткую летнюю ночь. А на рассвете стали прибывать созванные родственники. Большая была у старика родня, и притом разнообразная. Ехали все, кичась друг перед другом, натягивая вожжи, покачиваясь на рессорных сиденьях: кто бричкой похвалялся, кто упряжью, а кто мастью выездных лошадей. А уж разоделись, разрядились-то! Женщины в цветастых платках возвышались над повозками, словно колокольни: поскрипывали в соломе начищенными ботиночками, держа на отлете руку с часиками на запястье, чтобы все видели — имеем и не жалеем. Мужчины форсили синими кепками, в глаза кидалась их одежа из домотканой шерсти в полоску и клетку; иной вырядился в тонкое покупное сукно, повесил на шею шарф в полоску — показывал, что кошелек у него не пустой, что он все может, — истратился порядком, но и в закромах еще кое-что есть. В этой пестрой веренице, дребезжа, въезжали во двор и несколько тележек — тесных и маленьких, словно спичечные коробки. Люди сидели в них тоже в одеже из домашнего сукна, но тканного на хлопковой основе, а то и из канифаса, а башмаки у них совсем потускнели и скрипели не так, как у других. И старуха и Казимерас встречали их куда прохладнее, показывали место для упряжки где-нибудь в сторонке и позволяли самим распрягать. Они и распрягали, сами вели к колодцу поить лошадей, опустив глаза, словно были виноваты, что приходятся родней такому богатому дому, а войдя в избу, старались сесть поближе к двери, на место бобылей.
В горнице сидели долговязый Пятшонас и батрак Подериса Антанас. Они тянули водку, закусывая крупно накромсанной копченом свининой. Возле двери горницы уже стояли их заступы: обоих позвали рыть могилу. Возле них вертелась Салямуте, сияющая и до того раскрасневшаяся, что ясно было видно: капелька-другая перепала и ей. Наливала обоим и ублажала Питшонаса:
— Еще капельку, чтобы на сердце полегчало…
— Будет с меня, Салямуте, — отбивался тот и пил, жмурясь от удовольствия, словно кот на теплом колпаке у очага, пальцами запихивал в рот мясо, жевал и сулил: — Выйдешь за меня — не пропадешь, Салямуте.
Салямуте краснела, как бурак. Присаживалась к Пятшонасу, опять подымалась, бежала через горницу, так что юбки свистели, и притаскивала под передником новую бутылку из темного стекла.
— Чтобы сердцу полегчало, это на корешках… сама настаивала.
— А может, хватит. Чересчур много — нездорово.
— Где там, где там чересчур много таким дубам-то! Так уж теперь и напьешься. Было бы чем! Еще, говорю, капельку, а вот эту, — показала она из-под передника еще одну бутылку, — эту вы с собой возьмите.
— Может, не надо.
— Как не надо, как это не надо? На кладбище все пригодится. Шутка ли такую работу одолеть? Провозитесь, поди, целый день. Как это не надо?
— Целый день вряд ли, может, с полдня.
— И не говори, не говори, целый день — и все тут. Берите без разговоров бутылку. И закуски дам. Только уж ты, Стяпонюк, смотри, чтобы могила была на месте, где деды наши покоятся — за канониковой оградой, как я говорила…
— Может, и найдем.
— Явите такую божескую милость. Может, когда разживемся, крест поставим, чтобы всем покойникам вместе… — трещала Салямуте.
Молчавший до сих пор батрак Подериса обернулся:
— А ты бы, Салямуте, сама пошла с нами, сама показала, — сказал он, через силу ворочая языком. — Все травой позаросло, насыпи осели, разбери тут, где каноник гниет, где не каноник…
— Этак, пожалуй, лучше, Салямуте, — поддержал его Пятнюнас.
А помолчав, опять подбодрил:
— Выйдешь за меня — не пропадешь.
Салямуте зарделась еще больше. И не поджимала больше губ, чтобы не улыбаться, — такая была счастливая.
— Пойдем по тропинкам, в речке у кладбища ноги вымоем, — опять подбодрил ее Пятнюнас. — Ну как, Салямуте?
— Я хоть на карачках согласна, — пыша радостью, отвечала она, — вот не знаю, как мамаша…
Мамаша поморщилась на просьбу, подергала губу и согласилась. И ушли они все трое с заступами, взяв черную бутылку с питьем и увязанный в пестрый платок сверток, от которого так пахло сычугом с чесноком, что слюнки текли.
А во двор въезжали все новые родичи. На что большой был у нас двор, и то под всеми навесами мигом стало полно повозок и лошадей. Старухе с Казимерасом некогда было отойти от ворот, они то и дело встречали, то и дело здоровались, то и дело проливали слезу, принимая соболезнования родни, а заодно и припасы: у каждого под сиденьем оказывался окорок или сыр, каравай ситного, величиной с квашню, или же круг колбасы — так уж у нас принято: надо не надо, а все равно выказывай свою широту, с пустыми руками не переступай гостеприимного порога.
— И зачем это, — охала старуха, — будто своего у нас нет… Пожалуйте, в избу пожалуйте.
На лужайке, под высоким вязом с гнездом аиста на верхушке, весело трещал огонь. Там приглашенный в дом известный на весь приход пивовар Ляушка с вечера варил пиво, сыпал в чан взятый взаймы у соседей солод. Кругом далеко выстроились ошпаренные бочки, гулко стукались пузатые кадки, крепко пахло хмелем. Откуда ни возьмись явился перед Ляушкой Повилёкас, озабоченно спросил:
— Успеет отстояться?
— И отстоится — выпьют, и не отстоится — выпьют, — успокаивал его Ляушка, мигая покрасневшими от огня глазами. — Три дня будут сидеть гости, за это время все вылакают, не бойся.
Тут же вертелся и Ализас. Он появлялся всюду. Лез к приехавшим распрягать лошадей, тащил с Юозёкасом охапку дров, когда Ляушка отворачивался, совал палец в чан, с видом знатока пробовал сусло, чмокал губами и все подмигивал мне:
— Погуляем и мы!
Все его отгоняли, и все звали пособить, как только надо было что-нибудь сделать. И он спешил туда, куда его звали, топая огромными, неуклюжими ножищами, сверкая потными веснушками, с широко разинутым ртом — счастливый, сияющий, словно был на ярмарке или на престольном празднике. Прибегал, делал, что велено и что не велено, за всем приглядывал, а то останавливался послушать льющийся из открытых окошек и порядком уже охрипший голос кривоносого Прошкуса:
Душа-а стоит над те-е-елом.
Жа-алобно ры-ыда-а-ает…
Там опять бежал на зов старухи в избу, в хлева, на лужок, что-нибудь нес, тащил, волок, путался у всех под ногами и, сунув в зубы раздобытую где-то покупную папиросу, пускал дым открыто, у всех на глазах и всем в глаза. И не один гость, покачивая головой, говорил:
— Ох, добром не кончит этот крапивник!
— Незаконный, чего ты хочешь…
Гости уже съехались. Сидели в избе среди певчих, толкались в чулане, валили в горницу, где их ждали длинные столы, заваленные едой, заставленные бутылками и кувшинами с домашним пивом. Старуха медленно проплывала меж гостей, просила покушать, подкрепиться, сама присаживалась рядом и, пользуясь перерывом между двумя песнопениями, говорила: